Анна Ахматова в 1960-е. Последний поэт (2 тома)
Код 3817881
- ISBN: 978-5-93273-399-8
- 1213 страниц
- январь 2015
- Мосты культуры
- СЕРИЯ "ВИД С ГОРЫ СКОПУС"
- 1500 г

 |
Код 3817881
Книга авторитетного исследователя биографии и творчества Анны Ахматовой стала серьезным вкладом в изучение ахматовского наследия и в историю русской литературы ХХ века в целом. Поэтические декларации, устные и печатные высказывания Ахматовой исследуются на пространном документальном фоне, составленном из ее личного архива, мемуарных свидетельств современников, значительного числа публикаций в советской, эмигрантской и иностранной периодике. Пилотное, сокращенное издание этой книги, было...
Книга авторитетного исследователя биографии и творчества Анны Ахматовой стала серьезным вкладом в изучение ахматовского наследия и в историю русской литературы ХХ века в целом. Поэтические декларации, устные и печатные высказывания Ахматовой исследуются на пространном документальном фоне, составленном из ее личного архива, мемуарных свидетельств современников, значительного числа публикаций в советской, эмигрантской и иностранной периодике. Пилотное, сокращенное издание этой книги, было издано десять лет назад ограниченным тиражом и было награждено премией им. Андрея Белого и премией им. Ефима Эткинда, вызвав оживленное обсуждение в российской и зарубежной печати. Во втором издании учтены появившиеся за истекшее десятилетие и ранее неизвестные документы и свидетельства, и недавно поступившие на архивное хранение материалы, и сообщенные читателями первого издания уточняющие и детализирующие сведения. Книга в 2-х томах значительно расширена (в полтора раза) как за счет новых текстов, так и иллюстраций.
Вступительная статья Р.Д.Тименчика к книге «Последний поэт. Ахматова в 60- годы»
В этой книге рассматривается промежуток между 5 марта 1953-го, днем смерти Сталина, и 5 марта 1966-го — днем смерти Ахматовой. Помнятся мне оба дня.
К Сталину я как-то при его жизни обращался письменно. Заболев корью и испытав первый детский страх смерти, стал искать выход из удручающего положения и быстро нашел. Печатными буквами написал ему просьбу поручить ученым изобретение лекарства от умирания (толковали потом, что и адресата волновала эта медицинская проблема). Мама сказала, что перешлет, я успокоился.
Анна Каминская рассказывала мне, что у нее, как у всех советских школьников, он постоянно жил в голове. Как-то в троллейбусе она спросила Ахматову, что если Сталин войдет в троллейбус — как мы его узнаем? Та раздраженно ответила, что узнаем, потому что он маленький.
В траурный день меня вела в школу учительница в первом классе, наша соседка. На улице темнеющим мартовским утром безутешно и безнаказанно рыдал пьяный оборванец. Я развернулся с вопросом, но учительница тоже раздраженно пресекла обсуждение, а как я узнал много позже, у ней со свежим покойником были свои счеты.
Пятого марта шестьдесят шестого вечером мне позвонил мой друг Женя Тоддес, сказал, что Би-Би-Си объявило о смерти поэта. Он тут же пришел ко мне, и мы с часок промолчали. Чувство внезапного обрыва великолепной двухвековой затеи сочеталось в те дни даже не с гражданскими, а именно что с личными чувствами. В начале нашей университетской жизни мы слушали лекции Андрея Синявского о поэзии символистов и тех, кто от них ушел. И стало понятно, что заниматься теперь надо именно этим. Недавний приговор суда двум писателям и непротивление большинства интеллигентов государственному насилию показали инфантильность шестидесятнических прогнозов. И теперь стало понятно, что «заниматься этим» надо бы без патронажа существующего режима.
Когда Женя ушел, я сел записать конспективно то, что помнил из ахматовских ответов на вопросы в разговоре, состоявшемся за семь месяцев до сообщения зарубежного вещания.
Думается, в выхваченном для погружения хронологическом куске нет противоречия титулу книги. Календарные привязки ведь вообще, сказала и Ахматова, куда как условны. Вспоминаю разговор с одним из моих учителей Юрием Михайловичем Лотманом в первые годы ускорения и перестройки, когда, по его словам, окошка еще не открыли, но вентилятор уже поставили. Я выразился о работах одного старшего коллеги, что это ведь по сути литературоведение сороковых годов. Хотя они вышли в 1950-е. Но ведь сороковые не прямо в сороковых и кончились, объяснился я. «А кто Вам сказал, что они вообще кончились», — срезал Юрмих.
Почему я вообще после занятий историей модернистской культуры начала прошлого века заявился в эту немую глушь? Не только потому, что при попытке выгородить и описать один из интерьеров русской литературы того века в согласии с моим пониманием методики истории словесности, можно было рассказать, — взяв полуцитату из титульного автора, — «как прошлое», наиболее для меня интересное, «в грядущем» оттепельном климате «тлело». Пожалуй, тому были еще три причины. Начну с последней.
В-третьих потому, что то было время, в которое я жил и в которое мне хотелось спустя пол-века вернуться и про которое, помимо прочего, я мог рассказать и о своих друзьях в поколении как о читателях Ахматовой. Одной из примет этого читательского поколения было именно то, что время размерялось от одной публикации Ахматовой до другой, от появления в рукописном кругообороте одного из ее неопубликованных стихотворений до следующего момента живительного дыханья. У этой фракции читательского сообщества было отчасти даже горделивое осознание присутствия при жизни последнего на излете череды вычитаний великого русского поэта. Было смутное ощущение, и для меня оно впоследствии подтвердилось, что будут еще замечательные стихи, достойные внимания и уважения фигуры, веселые и солидные имена, но та, собственно великая русская поэзия, от хотинской оды до «Поэмы без героя», кончилась. Наверное, к этой причине относится и то, о чем сказала одна из лучших и строгих читательниц, что повествование в моей книге напоминает Маргариту из популярного романа, барражирующую с молотком над квартирами обидчиков Мастера. Если уж речь идет о личном присутствии хрониста в многофигурной толпе бурнопогодного прошлого, то при всем отмежевании от «шаткой и валкой», как говорил Мандельштам, «лирики о лирике, самого дурного вида лирического токования», я вовсе не взыскую отсутствия описывающего. Наоборот, принадлежностью филологического подхода и честной игры в нем я полагаю постоянные напоминания о возмущающем эффекте недремлющего наблюдателя, почти наглядную картинку, возникающую у читателя, когда он видит изрядно потертое клише «пишущий эти строки». Изучая поэта, надо реконструировать его адресата, сиречь исторического читателя в соприродном ему культурном контексте (при всей неаппетитности этого контекста в данном случае — отсюда и преизбыток советского хлама в предлагаемом сочинении). И надо предъявлять себя как тоже исторического читателя, отдавая себе и другим отчет в своих персональных «горизонтах ожиданий», в своем «сентиментальном воспитании», в своем читательском «потолке». Мы комментируем тексты автора и комментируем себя. И в этом наша последовательная филологичность. Ибо этот род деятельности, из комментария возникнув, к комментарию же в своем пределе и стремится. Конечно, когда мы гадаем, из каких уголков житейского волненья склубились сладкие звуки и молитвы, мы частенько берем не по чину, но это уж профиздержки специальности.
Вторая причина — так получилось, что мне довелось после кончины Ахматовой знать многих ее близких друзей и дружить с ними «по-человечески», бытовым образом. Немало поучительного они мне рассказывали, а то, про что они рассказывали, — это была, как правило, именно Ахматова последних лет. Мне хотелось эти сведения каким-то образом свести воедино, да и просто сделать так, чтобы они не пропали. Я чувствовал долг перед ахматовскими друзьями и знакомыми, говорившими мне о ней. За десять лет, прошедшие с написания той книги, ушли еще и Ника Глен, Юля Живова, Зоя Томашевская, Алексей Дубов, Грейнем Ратгауз, Карло Риччо, Наташа Горбаневская. Ушел и — что безмерно огорчительно для меня, не успев прочитать ту книгу и сказать, как всегда прямо и нелицеприятно, что он думает о ее недочетах — соавтор мой по ахматовскому разделу нашего сорокалетней давности научного манифеста, писавшегося для зарубежного славистического издания и носившего домашнее и короткое название «Долой…!» (от этого заголовка я бы не столь решительно отступался и сегодня), а официальное и громоздкое — «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма» (и были мы с Юрием Левиным, Димитрием Сегалом и Татьяной Цивьян) Владимир Николаевич Топоров.
И главная причина — потому что с 1958 года, выходя из сорокалетия страха, Ахматова завела записные книжки. Блокноты с пластмассовыми и металлическими спиралями, школьные и общие тетрадки, женевский альбом, кожаный бювар к 300-летию воссоединения Украины с Россией, книжечки с алфавитом, лондонские «Notes», наконец, листы, вплетенные в обложки гослитовской «Тысячи и одной ночи» и тома шеститомного Лермонтова (подарок И.Н. Медведевой-Томашевской с надписью: «Да послужит сия книга черновым записям другого поэта») — все они представляют в совокупности единый в своей разносоставности и многожанровости документ. В 1996 году он был в виде транскрипции издан в Италии. Свод блокнотов и тетрадок нуждается в комментарии, который подстать многолюдному квалифицированному историко-филологическому коллективу. Но прежде, чем эксплицировать отдельные записи, следовало очертить круг того информационного минимума, который понадобится для понимания любого слова, легшего на бумагу именно там и тогда — в 1958-66 годах в Союзе Советских Социалистических Республик. Комментариев на все времена не бывает — каждый рассчитан на сегодняшний уровень читательского недоумения и полузнания. За десятилетие уровень недопонимания естественным образом повысился, и надо было бы громоздить новые объяснения, чтобы спустить читателя с высот realiora в долины realia и этим, как говорил Н.Н. Пунин, передать эпоху, точнее было бы сказать, ту легкую пыль времени, которая всегда поднимается и стоит над эпохой, не отражая ее полностью, но вместе с тем давая о ней достаточно конкретное представление.
Т.е. в нашем случае ввести в отплывшие на еще одно десятилетие времена и нравы, когда Ахматовой делали прическу «бабетта», когда немилая ей молодая поэтесса воспевала автоматы с газированной водой, и когда, по словам другой поэтессы, Ахматовой любезной, «и “яр гардешмен” звенело, и “авара му” звучало», а еще двое из ее молодых знакомцев сочиняли под «Сиреневый туман» — «и скоро будет стерто лицо моей земли от атомных атак», когда двадцатилетний герой на экране жаловался, глядя в окно: «Надоела зима со страшной силой», а зал понимающе кашлял, когда в русскую поэзию, с одобрения Ахматовой, вошла «та Москва, которую мы видим из каждого окна» — с нумерованными дворниками,с брюками-дудочками, с «древнеегипетскими ребристыми башмаками», с троллейбусами, похожими на египетские надгробья-мастабы, с золотым диксилендом ленинградских предместий, с земляничной поляной и восьмью с половиной, с Иваном Денисовичем и Софьей Власьевной, со спидолами и рижской мебелью, со Сталиным в мусоропроводе - и прочие обстоятельства места и времени заключительных лет «ее большой невыносимой жизни», но уж этой черепахи-лиры не догнать пелееву сыну-комментатору. Прустовская быстротекучая материя, быль наша, стремительно вплывающая в баснословье, дополнительно отяготила предлагаемую книгу.
Эта книга и вообще-то о поэтовом времеборчестве, о грехе времени и о разных читательских временах.
О первом Ахматова говорила в 1927 году, сжав в торжественный амфибрахий слова апокалиптического ангела, стоящего на море и на земле:
И ангел поклялся Живущим,
Что времени больше не будет...
«Это лучшие строки, какие я знаю», — сказала АА. Время — как грех, и клятва — обещание какого-то непостигаемого «нечто». Не человеческая клятва, а божественная.
О вторых она сказала в последний год жизни (как вспоминает Томас Венцлова), что молодое поколение, конечно, уже знает многое, но все-таки не знает и никогда не узнает, из какой грязи и крови они все растут, на какой грязи и крови все это замешано — то, чем мы живем сейчас.
Заказанное канадским университетским издательством (Захаром Давыдовым) и выпущенное совместно с Евгением Кольчужкиным (уникальный «Водолей»!) в Москве, мое исследование адресовалось прежде всего к коллегам-филологам, но неожиданно вызвало интерес и у представителей смежных дисциплин и ремесел. Им, натурально, обезвоженный стиль и кружковая семантика не всегда были понятны. Вводила в недоумение и задача книги.
Из всего здесь выше сказанного должно, как будто явствовать, что автор предложенной композиции не претендует на то, чтобы лепить портрет ушедшего поэта, скорее уж речь идет о том, чтобы грамотно снять посмертную маску.
Еще одно из их недоумений хочу задним числом разъяснить: заглавие книги отсылает к жанру трудов Б.М. Эйхенбаума о Толстом и Л.С. Флейшмана о Пастернаке.
Я почистил и подчистил некоторые фактические неточности и интерпретационные невнятности, стер некоторые отпрыски пера, огорчившие иных читателей, здравствующих и усопших. Во втором издании учтены некоторые появившиеся за истекшее десятилетие в печати документы, а также ставшие мне доступными рукописные фонды, а также впервые поступившие на архивное хранение материалы, а также сообщенные мне читателями первого издания уточняющие и расширяющие свидетельства про последние годы последнего поэта. Картина прошлого становится детальней, а шум той эпохи — все глуше, так впору повторить за героиней этой книги, записавшей 28 июля 1965-го, на следующий день после того, как набивающий эти строки оглашал ей два часа кряду, запинаясь, вопросы про подробности десятых годов:
Куда оно девается ушедшее время? Где его обитель…

В этой книге мама ребенка с расстройством аутического спектра (РАС) откровенно делится своим опытом, наблюдениями и переживаниями. Рекомендации автора проиллюстрированы реальными примерами и опираются на мнение специалистов. Издание будет полезно прежде всего родителям высокофункциональных аутистов, а также всем, кто принимает участие в воспитании и обучении детей с РАС.
Издательство:
ДМК
Дата выхода: июнь 2025
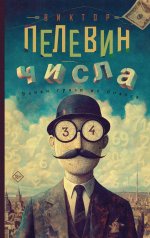
Если числа и цифры правят нашей жизнью, совсем не обязательно она становится математически точной и понятной. Герой "Чисел" – бизнесмен ельцинской эпохи Степан – всю жизнь боялся числа 43 и доверял числу 34. Одно вело к горестям и потерям, второе – к удачам и успеху. И даже фильм про трех танкистов и собаку он полюбил именно за то, что танкистов было три, а собака была четвертой! Но истинная свобода – в...
Издательство:
АСТ
Дата выхода: август 2025
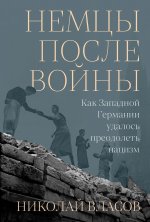
Как случилось, что вроде бы цивилизованная нация за 30 лет развязала две мировые войны и докатилась до нацистского варварства? Смогут ли немцы исправиться, стать свободными, будут ли безопасны для соседей — или навеки обречены идти своим «особым путем», выбирать диктаторов, затевать конфликты? Такими вопросами задавались европейцы и американцы в середине 1940-х годов. Многие считали приход...
Издательство:
Альпина Паблишер
Дата выхода: июнь 2025
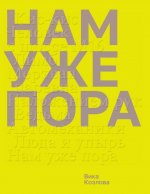
«Нам уже пора» — сборник коротких историй про странную, деконструированную реальность, в которой мы застряли, будто в лимбе. Пожилая кошатница забывает человеческую речь, дворник пришел из другого мира спасти нас, гость тайского салона подозревает, что массажистка — древняя богиня... Героев проще всего назвать городскими сумасшедшими, но что, если пленка, отделяющая реальное от иллюзорного, слишком...
Издательство:
Поляндрия
Дата выхода: декабрь 2025
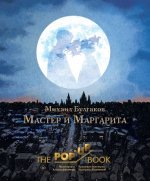
Погрузитесь в мистическую вселенную главного романа Михаила Булгакова, который вот уже много десятилетий не перестает удивлять, пугать и завораживать читателей! "Мастер и Маргарита" — это вихрь из дьявольских игр в советской Москве, трагическая история о Понтии Пилате и, конечно же, одна из самых прекрасных и жертвенных историй любви в мировой литературе. Это издание — не просто книга, а...
Издательство:
АСТ
Дата выхода: август 2025
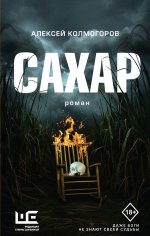
Новый роман финалиста премии «Большая книга» Алексея Колмогорова «Сахар» отправляет читателя к далеким берегам Острова Свободы. Куба — это не только профиль Фиделя, ретроавтомобили и гаванские сигары. Куба полна древних секретов и тайных культов. Под ее высоким небом и жарким солнцем разгораются нешуточные страсти, подогреваемые служителем мистического культа. И только поначалу кажется, будто...
Издательство:
АСТ
Дата выхода: август 2024
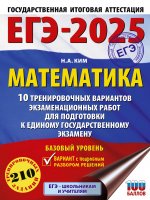
Данное пособие предназначено для учащихся 10–11 классов. Оно позволяет в кратчайшие сроки успешно подготовиться к сдаче единого государственного экзамена по математике базового уровня в 2025 году. Пособие содержит 10 тренировочных вариантов. Каждый вариант составлен в полном соответствии с требованиями ЕГЭ, включает задания разных типов и уровней сложности. В конце каждого варианта представлен образец...
ISBN: 978-5-17-164774-2
Издательство:
АСТ
Дата выхода: июль 2024
Оставить комментарий